4 ГЛАВА.Часть 2
4 ГЛАВА. Часть 2 .Расцвет норвежской монархии в XIII в.
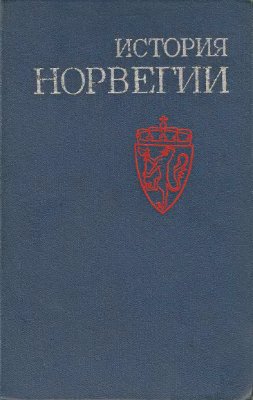 Управление Норвегией заметно модернизировалось. Если прежде королю было необходимо лично разъезжать по областям для того, чтобы осуществлять контроль над населением, собирать подати и выполнять функции военного предводителя, то теперь он был в состоянии перепоручить часть своих полномочий чиновникам. Возрастает объем государственной переписки, из центральной канцелярии короля, которая оформляется именно в это время (канцелярию обслуживали духовные лица, возглавляемые канцлером, хранителем королевской печати), исходит большое число предписаний местным властям. Управление Норвегией заметно модернизировалось. Если прежде королю было необходимо лично разъезжать по областям для того, чтобы осуществлять контроль над населением, собирать подати и выполнять функции военного предводителя, то теперь он был в состоянии перепоручить часть своих полномочий чиновникам. Возрастает объем государственной переписки, из центральной канцелярии короля, которая оформляется именно в это время (канцелярию обслуживали духовные лица, возглавляемые канцлером, хранителем королевской печати), исходит большое число предписаний местным властям.
Время от времени созывается совет королевства (riksmøte) для обсуждения и решения важнейших дел. В это собрание входили "все лучшие люди страны"7: лендрманы (число их в XIII в. было ограничено 10-15 лицами), лагманы и сюсельманы, а равно и епископы и аббаты. Но кроме них, от каждой епархии назначались "лучшие бонды", обычно по 12 человек. Соответственно решения совета королевства рассматривались как получившие одобрение не одной только светской и церковной знати и служилых людей короля, но и бондов. Подобные собрания изредка созывались начиная с середины XII в., первое – в 1152/53 г. в связи с учреждением архиепископства, затем в 1163/64 г. для принятия закона о престолонаследии. Более частым стал их созыв при Хаконе Старом. Наряду с этим Хакон IV и Магнус VI Хаконарсон созывали и собрания одних лишь магнатов, без приглашения "лучших бондов" (начиная с 70-х годов их вообще не приглашали на совет). Норвежский совет королевства (его функции в основном сводились к подаче советов государю и к одобрению его решений) не превратился в какое-либо подобие сословного парламента, решения которого не могли обладать законной силой без участия горожан. Тот факт, что, несмотря на свой преимущественно аристократический состав, совет королевства не ограничивал власти короля и не стал обязательным институтом, как нельзя лучше характеризует отношение социальной элиты к государственной власти в период после завершения гражданских войн. Эта особенность государственного управления Норвегии связана, конечно, и со слабостью городов, и с неразвитостью налоговой системы (известно, что в других странах средневековой Европы сословное представительство занималось прежде всего вотированием налогов). В более позднее время роль государственных собраний в Норвегии не только не возросла, но и сократилась по сравнению с XIII столетием.
Большее значение имел для управления страной узкий совет короля (Kongsråd), в который входили высшие чины и королевские приближенные. В частности, он действовал в качестве регентского совета в годы малолетства монарха, например в первые годы царствования Эйрика Магнуссона (1280-1299).
Местное управление во всевозрастающей степени переставало быть самоуправлением. Суд, сбор податей, военное ополчение, охрана порядка – короче, вся власть на местах сосредоточивалась в руках королевских чиновников, сюсельманов и лагманов. Численность представителей бондов, которые должны были посещать областные тинги, неуклонно сокращалась, равно как и менее реальным становилось их участие в обсуждении дел. То, что бонды время от времени посылали своих уполномоченных на государственные совещания, отличает Норвегию от более феодализированных стран той эпохи и свидетельствует о сохранении некоторых демократических традиций; но, во-первых, уполномоченные не избирались крестьянами, а назначались местными властями и духовенством, во-вторых, их роль на этих совещаниях была пассивной: их присутствие лишь придавало собранию видимость представительного.
Пожалуй, еще более существенным признаком "модернизации" государственной жизни со второй половины XII и в XIII в. явилась частичная замена воинской службы бондов в ополчении уплатой лейданга, первого светского налога в Норвегии (помимо церковной десятины). Эта реформа, диктовавшаяся и непосредственной заинтересованностью казны, и потребностью государства в создании профессионального войска, более эффективного, нежели крестьянское ополчение, имела далеко идущие социальные последствия. Независимо от того, была такая замена желательна для бондов или нет, нужно полагать, что объективно освобождение крестьян от повинности, несение которой отрывало их, и нередко надолго, от хозяйства, дало положительные экономические результаты. Вместе с тем эта реформа способствовала дальнейшему вытеснению крестьянства из общественной жизни, лишала его влияния на управление и углубляла то размежевание социальных функций между классом воинов и классом сельских тружеников, которое намного раньше и более последовательно произошло в крупных странах Европы и определило их феодальное развитие. Однако в отличие от Швеции в Норвегии бонды не были полностью освобождены от воинской повинности, в особенности от обязанности на свои средства выставлять боевые корабли.
Как уже было сказано, господствующий класс в XIII в. сплачивается вокруг короля. О его организации и структуре некоторое представление дает "Дружинный устав" (Hirðskrá), регулировавший статус и отношения внутри светской части верхушки общества. Такой устав существовал уже при Сверрире (но не сохранился). То, что устав XIII в. (его редакцию датируют 70-ми годами) именует "дружиной" (hirð), собственно, не вполне соответствовало этому названию. Речь шла не о боевом отряде, подчиненном королю, а о разных категориях в составе норвежского рыцарского сословия, которое оформляется в это время и приобретает ту степень зрелости и обособленности, какая вообще была доступна светским господам в Норвегии. Служилая аристократия группируется непосредственно под главенством короля в относительно замкнутую корпорацию. Члены ее, принадлежавшие к разным рангам, получали вейцлы – кормления разной доходности и обладали неодинаковыми привилегиями. Однако привилегии эти, в частности фискальные, были более ограниченными, чем привилегии шведских господ в том же XIII в.8
Хирд возглавляли герцог и ярл, далее шли лендрманы и стольники-скутильсвейны ("skutilsveinn" – от "skutill" – "блюдо" и sveinn – "мальчик", "слуга" – первоначально обозначение человека, служившего при особе короля, затем – почетный титул). Основную часть хирда составляли дружинники, охранявшие особу короля. Ниже их в иерархии стояли "гости" ("gestir"), выполнявшие полицейские функции, и пажи ("kertisveinar" – "те, кто носит свечи"); кроме того, в хирд входили духовные лица из окружения короля, канцлер, конюший, знаменосец, казначей и некоторые другие придворные чины и сановники. Все они были связаны с королем присягой личной верности. Помимо рыцарской службы, члены хирда должны были выполнять и иные поручения, в частности всякого рода административные обязанности. Часть рыцарей постоянно находилась при дворе, другие сидели в своих усадьбах. Принадлежность к хирду давала, помимо материальных выгод, высокий престиж, и поэтому многие могущественные люди стремились вступить в ряды служилых воинов короля ö. Численность хирда на протяжении XIII в. возрастала. Как полагают, она превысила 3 тыс. человек. Вооружение стольников – панцирь, кольчуга, шлем, перчатки и чулки из стали, меч, копье, щит, кольчужная попона боевого коня – было такое же, как у рыцарей в других странах.
Представители высших категорий аристократии должны были по приказу короля выставлять на собственный счет определенное число вооруженных лиц в зависимости от своего ранга и размеров вейцл, которые были им пожалованы. Символично, что в "Дружинном уставе", как и в "Ландслове", к вейцлам и сюслам – должностям, занимаемым сюсельманами, применяется термин "лен". Несение рыцарской службы обеспечивалось пожалованием вейцлы, доходов, собираемых с местного населения, или послы, часть поступлений с которой ее обладатель имел право оставлять в собственном распоряжении. И хотя эти ленные пожалования, в отличие от западноевропейских феодов, не были наследственными, фактически они обычно переходили от отца к сыну точно так же, как мог наследоваться аристократический титул.
Господствующий класс в Норвегии не имел таких же основ для своего развития, какими располагали феодалы континента или соседних скандинавских стран. Невозможность создания крупных собственных имений, отсутствие укрепленных замков (укреплены были только королевские и епископские резиденции), ограниченность материальных ресурсов для содержания тяжеловооруженной рыцарской конницы да и сами природные условия и се это, помимо главного – специфики отношений между господами и крестьянами (см. ниже), ставило существенные преграды на пути формирования феодального рыцарства. Поэтому социальная верхушка в Норвегии со времени завершения гражданских войн и проявляла тенденцию сплотиться вокруг короля и использовать укрепляющийся государственный аппарат в интересах упрочения собственного положения; монарх же получал в свое распоряжение практически всех аристократов страны, которые так и именовались – служилые люди короля (handgengnir menn).
Но отношения между светской знатью и монархом не всегда отличались гармоничностью. В периоды, когда личная власть была прочной, хирд был ему покорен; во времена же малолетства королей аристократы проявляли склонность злоупотреблять своим привилегированным положением не только во зло рядовым подданным, которых они незаконно обирали и притесняли, но и в ущерб короне. Так было в начале XIV в., при короле Хаконе V Магнуссоне, когда могущественные люди стали окружать себя дружинами вооруженных слуг и заставлять бондов и мелких служилых людей вступать под их покровительство, принося им присягу верности. Хакон V был принужден принять строгие меры для обуздания подобных поползновений светской знати, вызвавших крестьянское восстание: королевскими постановлениями 1308 г. самовластие аристократов было несколько ограничено10. Некоторые ученые полагают, что этот король, реорганизуя и укрепляя государственное управление и внедряя в него чиновничество, имел перед собой пример современной ему Франции Филиппа IV Красивого11. Политика Хакон а V не имела антиаристократической направленности (как полагали Р. Кейсер и П. А. Мунк), она упорядочила управление12.
Западные ученые склонны отрицать наличие феодализма в Норвегии или говорить о его слабости. При этом в старой историографии акцепт делался на особей и остях юридического порядка, в частности на отсутствии наследственности ленов норвежских служилых людей. Ныне эта жесткая позиция несколько смягчена. Так, К. Хелле, резюмируя взгляды современных норвежских историков по вопросу о наличии феодальных тенденций в стране в XIII в., пишет следующее: в определенной мере существовало "внешнее сходство между норвежской аристократией, входившей в хирд, и европейской феодальной аристократией", ибо вступление в хирд сопровождалось принесением присяги верности, подобной вассальной присяге, служилые люди короля получали европейские титулы. Сходство отчасти шло глубже внешних форм: отношение служилых людей к норвежскому королю и "реально было отношением вассалитета", поскольку налицо верность и служба, преимущественно военная, с одной стороны, и покровительство – с другой; эта служба вознаграждалась экономическими привилегиями, которые соответствовали феодальному бенефицию, – пожалованиями земель и государственных доходов. Титулы и пожалования до известной степени были "фактически наследственными". Центробежные тенденции, проявлявшиеся в конце "высокого средневековья", выглядят как тенденции феодальной раздробленности. Хелле напоминает вывод X. Кута о том, что во всей Скандинавии около 1300 г. феодальная знать упрочила свое решающее влияние на государственное управление13. Однако, продолжает Хелле, феодальные тенденции проявились в Норвегии в тот период в ограниченной мере. Отношения личной зависимости "не пронизывали норвежское общество", затрагивая лишь связи служилых людей с королем. Владельцы ленов и вейцл не располагали, подобно вассалам в других европейских странах, юрисдикционной властью. Земельная собственность в Норвегии не подвергалась феодальным разделам. В той мере, в какой можно было бы говорить о феодальных чертах общественной жизни в Норвегии, это относится только к ее политическому устройству14.
Нельзя не признать, что изложенная точка зрения отличается от старых позиций норвежской историографии большей гибкостью и разносторонностью подхода к проблеме. Тем не менее и ее основу составляет традиционное понимание феодализма как ленного строя. Но феодализм не равнозначен политической анархии и не исчерпывается наличием упорядоченной ленной системы. Представляется более существенным социологический критерий, выходящий за рамки юридического анализа, а именно наличие общественного разделения социальных функций между классом профессиональных воинов, монополизирующих управление (и духовенства, контролирующего идеологическую жизнь), с одной стороны, и классом трудящихся, оттесненных от политической деятельности и лишенных полноправия, с другой – разделении, при котором на плечи трудящихся возложено бремя материального содержания господствующей группы, будь то в виде повинностей и оброков, присваиваемых отдельными земельными собственниками, будь то в виде платежей и служб государственно-правового, фискального характера, присваиваемых опять-таки представителями военной и церковной элиты. Если руководствоваться этим критерием, то, признавая относительную неразвитость феодальных отношений в Норвегии и глубокую специфику ее социального строя, нужно вместе с тем принять во внимание наличие в ней в изучаемый период определенных тенденции феодального развития в обществе в целом. Особенности положения как господствующего сословия, так и бондов Норвегии невозможно игнорировать, но они вряд ли должны затемнять известное типологическое сходство ос социальной структуры с феодализмом в других странах Европы.
Могущество норвежской монархии в XIII в. в немалой мере определялось тем, что она пользовалась поддержкой и светских, и церковных магнатов. Мы уже знаем, что строгая наследственность королевской власти была установлена с согласия высшего духовенства. Но сотрудничество светской и церковной властей не протекало в обстановке безоблачности. Конфликт между ними, столь характерный для Западной Европы тою времени, произошел в Норвегии в 70-80-е годы XIII в. Наличие у высшего духовенства юридических и фискальных привилегий (эти привилегии были подтверждены так называемым примирением в Тёнсберге 1277 г.)15 вызывало недовольство светских аристократов.
Роль церкви как учреждения и как идеологической силы была чрезвычайно велика. Духовенство являлось главным проводником учения о монархии божьей милостью, которое, освящая авторитет светской власти, ставило ее под контроль церкви. Относительно того, в какой море церкви удалось искоренить языческие верования и традиции и подчинить население своему влиянию, мнения ученых расходятся. Один, в частности Ф. Поске, склонны подчеркивать глубокое проникновение христианской идеологии и морали в духовную жизнь общества, тогда как Э. Бюлль считал это влияние менее эффективным и всеобъемлющим, нежели в других странах16. Нужно признать, что эта проблема недостаточно изучена (и не только применительно к Норвегии: мы толком не знакомы с "народным христианством" в средневековой Европе в целом).
ПРИМЕЧАНИЯ
7. HelleK. Konge og godemenn inorsk riksstyring ca. 1150-1319. Bergen; Oslo; Tromsø, 1972.
8. Blom G. A. Kongemakt og privilegier i Norge inntil 1387. Oslo, 1967, s. 280 f.
9. В 1300 г. Хакон V пожаловал титулы хирдманов духовным лицам.
10. Текст постановления см.: Norske middelalderdokumenter. Bergen; Oslo; Tromsø, 1973, s. 246 ff.
11. Norges historie. / av S. Imsen. Oslo, 1977, Bd. 4, s. 13 f., 53 ff.; ср.: Norges historie. / av K. Lunden. Oslo, 1976, Bd. 3, s. 435.
12. Schreiner J. Retterboten av 1308. – Hundre års historisk forskning. Oslo; Bergen; Tromsø, 1970. s. 111-129. Ср.: Benedictow O. Konge, hird og retlerhoten av 1308. – HT, 1972, Bd. 51.
13. Koht H. Det nye i norderlendsk historie kringom år 1300. – Scandia, 1931, Bd. 4.
14. Helle K. Norge blir on slat, 1130-1319. Bergen; Oslo; Tromsø, 1974, s. 193, 205 f.; ср.: Sandnes J. Norges historie. Oslo, 1977, Bd. 4, s. 241: "рыцарский строй и феодальное общество европейского типа коснулись Норвегии только как слабая, поверхностная рябь".
15. Текст см. в кн.: Norske middelalderdokumenter, s. 136 ff.
16. Paasche F. Kristendom og kvad. Kristiania, 1914; ср.: Johnsen A. O. Fra aettesamfunn til statssamfunn. Oslo, 1948; Bull E. Folk og kirke i middelalderen. Kristiania; København, 1912.
Опубликовано: БНИЦ/Шпилькин С.В. Источник: Ulfdalir

4 ГЛАВА. Часть 2 .Расцвет норвежской монархии в XIII в. 4 ГЛАВА. Часть 2 .Расцвет норвежской монархии в XIII в. ИСТОРИЯ НОРВЕГИИ
|

